Незрячие трогали звëзды. Морские. В Москвариуме
Наверно, каждый из нас слышал выражение «дотянуться до звёзд», которое означает исполнение мечты, реализацию планов, воплощение намерений и желаний, которые изначально могли казаться несбыточными.
Мы взяли интервью у преподавателя московской школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых Михаила Сладкова и постарались узнать, как это выражение воплотилось в его жизни. Оказавшись в стенах этой школы учеником, сейчас он посвящает себя преподавательской деятельности.
— Для начала расскажите, пожалуйста, немного о себе.
— Мне 39 лет. Я инвалид по зрению с детства, заболевание передалось мне от родителей. Сейчас медицина шагнула далеко вперёд, катаракту лечат достаточно успешно — для этого нужно на ранней стадии сделать операцию. Если не сделать её на первом-втором году жизни, то зрительный нерв атрофируется, так как он просто не получает информацию, и глаз начинает лениться. То есть, если хрусталик заменить, он всё равно уже не способен принести пользу в полной мере. Я заменил его уже в достаточно приличном возрасте, и у меня есть остаточное зрение, я хожу без трости.
Закончил я ту же школу, в которой, собственно, и работаю. Учился здесь с первого класса, из школы у меня много друзей, я сказал бы, что большую часть друзей я приобрёл в школе.
Наша школа очень старое заведение. Год основания — 1882 год, то есть, наша школа будет праздновать 140-летие в следующем году. Изначально это было небольшое заведение, где обучалось 10-30 детей, потом контингент расширялся, преподавательский состав расширялся, здания менялись. Сейчас мы на 3-ей Мытищинской, в 2010 году у нас появился второй корпус, мы расширились, поскольку дети у нас круглосуточно находятся. У нас хорошие условия для детей, ребята с понедельника по пятницу живут здесь.
— А сколько было человек в классе, когда Вы учились?
— Состав был приблизительно такой же, в моем классе было 9 учеников. Как правило, в параллели 1-2 класса и в каждом по 7-9 учеников. У нас 12-летнее обучение, мы учимся на 1 год больше за счёт того, что иногда требуется дополнительное время, чтобы освоить важные навыки, необходимые для получения образования. Если в обычных школах начальная школа — это 4 года, то у нас это 5 лет.
— Насколько я знаю, Вы не из Москвы. Расскажите, как Вы попали именно в эту школу, это была какая-то специальная программа?
— Да, я родился в Тульской области. В школу я пошел в 1989 году. У меня есть старший брат, с 1 по 6 класс он учился в Королёве. Когда пришло время идти в школу и мне, удалось отдать меня в московскую школу. Да, нужно было ходить в какие-то организации, договариваться, подписывать бумаги. И меня, и брата перевели в московскую школу, то есть, я поступил, а брата перевели в 7 класс.
У нас в области не было специализированной школы — вот есть школа, например, в Калужской области, в городе Мещовске — там учился мой отец. В Рязанской области, во Владимирской, во многих. В Тульской сейчас тоже есть школа, которая принимает детей с ОВЗ — ограниченными возможностями здоровья, но на тот момент такой специальной школы не было, поэтому детей из Тульской области распределяли по окружающим областям. Собственно, поэтому я и попал в московскую школу.
— Для начала расскажите, пожалуйста, немного о себе.
— Мне 39 лет. Я инвалид по зрению с детства, заболевание передалось мне от родителей. Сейчас медицина шагнула далеко вперёд, катаракту лечат достаточно успешно — для этого нужно на ранней стадии сделать операцию. Если не сделать её на первом-втором году жизни, то зрительный нерв атрофируется, так как он просто не получает информацию, и глаз начинает лениться. То есть, если хрусталик заменить, он всё равно уже не способен принести пользу в полной мере. Я заменил его уже в достаточно приличном возрасте, и у меня есть остаточное зрение, я хожу без трости.
Закончил я ту же школу, в которой, собственно, и работаю. Учился здесь с первого класса, из школы у меня много друзей, я сказал бы, что большую часть друзей я приобрёл в школе.
Наша школа очень старое заведение. Год основания — 1882 год, то есть, наша школа будет праздновать 140-летие в следующем году. Изначально это было небольшое заведение, где обучалось 10-30 детей, потом контингент расширялся, преподавательский состав расширялся, здания менялись. Сейчас мы на 3-ей Мытищинской, в 2010 году у нас появился второй корпус, мы расширились, поскольку дети у нас круглосуточно находятся. У нас хорошие условия для детей, ребята с понедельника по пятницу живут здесь.
— А сколько было человек в классе, когда Вы учились?
— Состав был приблизительно такой же, в моем классе было 9 учеников. Как правило, в параллели 1-2 класса и в каждом по 7-9 учеников. У нас 12-летнее обучение, мы учимся на 1 год больше за счёт того, что иногда требуется дополнительное время, чтобы освоить важные навыки, необходимые для получения образования. Если в обычных школах начальная школа — это 4 года, то у нас это 5 лет.
— Насколько я знаю, Вы не из Москвы. Расскажите, как Вы попали именно в эту школу, это была какая-то специальная программа?
— Да, я родился в Тульской области. В школу я пошел в 1989 году. У меня есть старший брат, с 1 по 6 класс он учился в Королёве. Когда пришло время идти в школу и мне, удалось отдать меня в московскую школу. Да, нужно было ходить в какие-то организации, договариваться, подписывать бумаги. И меня, и брата перевели в московскую школу, то есть, я поступил, а брата перевели в 7 класс.
У нас в области не было специализированной школы — вот есть школа, например, в Калужской области, в городе Мещовске — там учился мой отец. В Рязанской области, во Владимирской, во многих. В Тульской сейчас тоже есть школа, которая принимает детей с ОВЗ — ограниченными возможностями здоровья, но на тот момент такой специальной школы не было, поэтому детей из Тульской области распределяли по окружающим областям. Собственно, поэтому я и попал в московскую школу.
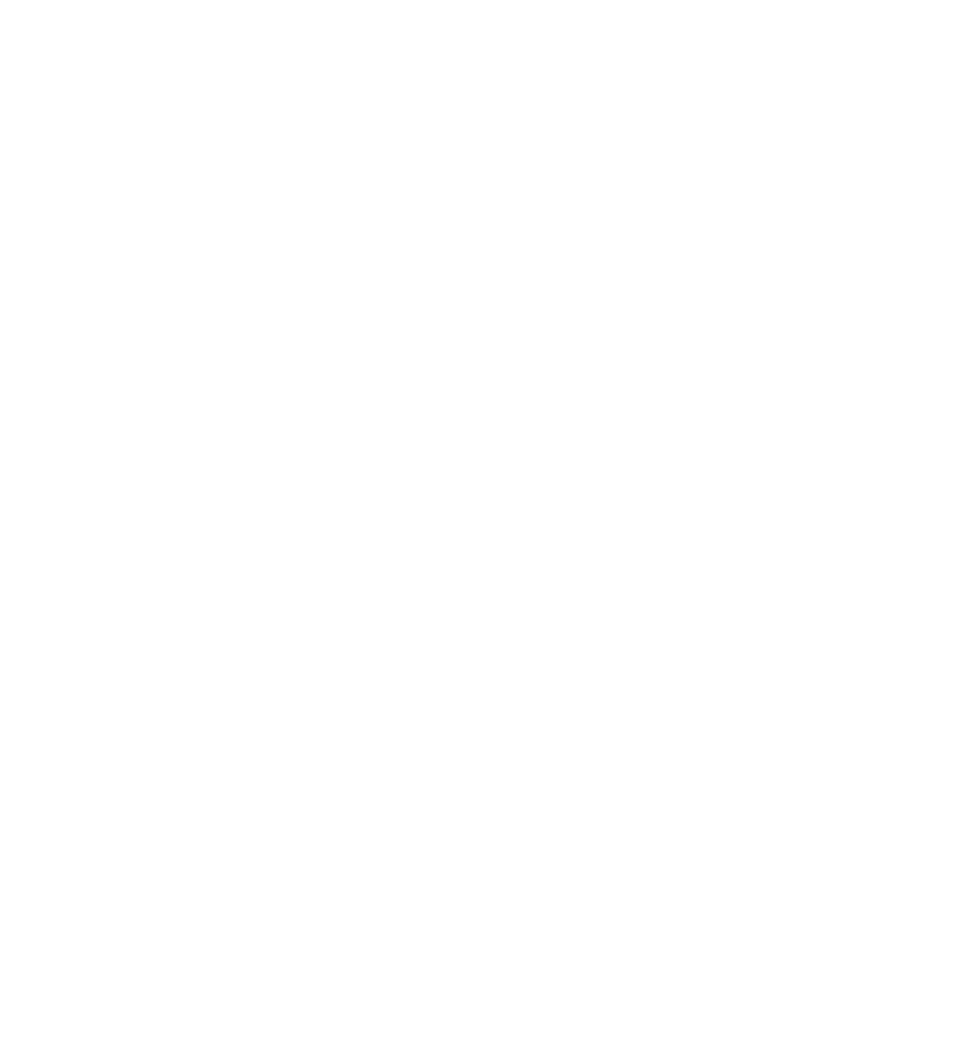
— А по сравнению с теми временами, сейчас ребенку из области легче поступить в московскую школу или труднее?
— Сейчас по регламенту в московскую школу могут быть приняты те, кто прописан на территории Москвы, либо имеет временную регистрацию с достаточно длительным сроком — около 5 лет.
Насколько я понимаю, сейчас каждый регион организовывает обучение незрячих на своей территории, то есть, это либо специализированные интернаты, либо школа с инклюзивным обучением.
Моя точка зрения в данном вопросе, что специализированные заведения, конечно, лучше. Хотя, с точки зрения повышения квалификации, есть курсы по тифлопедагогике, на которые может пойти любой преподаватель.
— Давайте поговорим о ваших первых впечатлениях от переезда в другой город, от учёбы.
Надо отметить, что раньше тут был интернат с пребыванием от каникул до каникул, я даже думаю, что кто-то на весенние и осенние каникулы оставался. Так как со всего Союза обучались ребята, не все добирались домой по 4 раза в год. Сейчас этой системы нет, нынешняя система предполагает пребывание с понедельника по пятницу. Я помню, что в первые выходные, когда родители приехали ко мне навестить, первое, что они от меня услышали, было: а что вы приехали так рано? Я ещё не успел по ним соскучиться. Какие-то такие были эмоции. Хотя, конечно, сначала я переживал — новое место, новый коллектив, незнакомые ребята, учителя. Я по натуре интроверт, не особо расположен к общению с окружающими, к легким знакомствам, но, повторюсь, что и друзья у меня появились, с которыми и после школы общаемся очень хорошо. К новому месту привыкаешь.
— А что касается внеклассных мероприятий, в каком формате они проходили и проходят?
— Это у нас такая традиция — мы постоянно ездим в музеи, в театры, в кинотеатры. Это было и в те времена, и на сегодняшний момент это сохраняется, поддерживается. Всевозможные мероприятия развлекательно-познавательные. Когда я был в начальной школе, это было начало 90-х, непростые времена, когда наступила новая эпоха, старое рухнуло, а новое еще не построили. И всё равно проводились какие-то мероприятия, мы ездили и в цирк, и в музеи, в парки.
Сейчас в музеях больше ориентируются на незрячих, делают специальные пособия, тактильные таблички, например. Когда мы приходим в Музей космонавтики, который находится рядом с нами, на ВДНХ, там уже нас знают, мы их постоянные посетители. И экскурсовод уже знает, что нам показать, подбирает такие залы, экспонаты, где можно что-то потрогать, то есть, оглядывается на аудиторию.
Раньше, мне кажется, этого было чуть меньше, сейчас это более заметно. Буквально сегодня мы были в Москвариуме, и когда я стал благодарить за прекрасные лекции, экскурсовод говорит: «Знаете, с вашей школой никогда не было проблем, всегда такие внимательные дети, любознательные, поэтому мне очень приятно с вами работать». То есть, это взаимно оказалось.
— То есть, можно сказать о том, что отношение к незрячим в общественных местах, например, в тех же музеях, изменилось сейчас в лучшую сторону?
— Может, тогда я просто этого не замечал, а сейчас я вижу это снаружи, как организатор, как взрослый человек. В некоторых музеях я неоднократно было за свою педагогическую деятельность, как классный руководитель. Один класс выпустил, с 6 по 12 класс, вот сейчас уже второй год веду следующий класс.
— У Вас старшие классы, не начальная школа?
— Да, я работаю в среднем и старшем звене.
— Расскажите, а как Вы решили стать преподавателем? Возможно, Вас вдохновил кто-то на такой выбор профессии?
— Если говорить, почему я выбрал такую профессию, то здесь я могу сказать, что моим вдохновителем стал Владимир Вячеславович Соколов. Мы сейчас с ним работаем параллельно. На тот момент, когда я был в 6 классе, он преподавал у меня информатику. И мне хотелось достичь тех же высот; я понял, что незрячие люди могут быть преподавателями, интересными преподавателями, заслуживать уважение учеников. Я его действительно очень уважал и уважаю как преподавателя, как человека. Не жалею, что все сложилось так, что я пришел работать и мы работаем, так сказать, рука об руку — я тоже преподаю информатику.
Но решение стать преподавателем я принял не сразу. Обучаясь в школе, я долгое время не знал, кем быть. Постепенно понимал, в каких областях я могу работать, а в каких нет.
— Как долго Вы преподаете в школе?
— Я преподаю с 2006 года, скоро будет 15 лет моей преподавательской деятельности.
— А где Вы получили педагогическое образование?
— Московский государственный открытый университет, потом курсы по тифлопедагогике. На этом курсе мне очень понравилось общение с преподавателями, его читали люди, которые сделали большой вклад в тифлопедагогику, у них многолетний опыт. Пообщаться с ними было замечательно, это была отчасти передача личного опыта — они рассказывали о том, как выходили из различных трудных ситуаций, связанных с преподаванием.
— Сейчас по регламенту в московскую школу могут быть приняты те, кто прописан на территории Москвы, либо имеет временную регистрацию с достаточно длительным сроком — около 5 лет.
Насколько я понимаю, сейчас каждый регион организовывает обучение незрячих на своей территории, то есть, это либо специализированные интернаты, либо школа с инклюзивным обучением.
Моя точка зрения в данном вопросе, что специализированные заведения, конечно, лучше. Хотя, с точки зрения повышения квалификации, есть курсы по тифлопедагогике, на которые может пойти любой преподаватель.
— Давайте поговорим о ваших первых впечатлениях от переезда в другой город, от учёбы.
Надо отметить, что раньше тут был интернат с пребыванием от каникул до каникул, я даже думаю, что кто-то на весенние и осенние каникулы оставался. Так как со всего Союза обучались ребята, не все добирались домой по 4 раза в год. Сейчас этой системы нет, нынешняя система предполагает пребывание с понедельника по пятницу. Я помню, что в первые выходные, когда родители приехали ко мне навестить, первое, что они от меня услышали, было: а что вы приехали так рано? Я ещё не успел по ним соскучиться. Какие-то такие были эмоции. Хотя, конечно, сначала я переживал — новое место, новый коллектив, незнакомые ребята, учителя. Я по натуре интроверт, не особо расположен к общению с окружающими, к легким знакомствам, но, повторюсь, что и друзья у меня появились, с которыми и после школы общаемся очень хорошо. К новому месту привыкаешь.
— А что касается внеклассных мероприятий, в каком формате они проходили и проходят?
— Это у нас такая традиция — мы постоянно ездим в музеи, в театры, в кинотеатры. Это было и в те времена, и на сегодняшний момент это сохраняется, поддерживается. Всевозможные мероприятия развлекательно-познавательные. Когда я был в начальной школе, это было начало 90-х, непростые времена, когда наступила новая эпоха, старое рухнуло, а новое еще не построили. И всё равно проводились какие-то мероприятия, мы ездили и в цирк, и в музеи, в парки.
Сейчас в музеях больше ориентируются на незрячих, делают специальные пособия, тактильные таблички, например. Когда мы приходим в Музей космонавтики, который находится рядом с нами, на ВДНХ, там уже нас знают, мы их постоянные посетители. И экскурсовод уже знает, что нам показать, подбирает такие залы, экспонаты, где можно что-то потрогать, то есть, оглядывается на аудиторию.
Раньше, мне кажется, этого было чуть меньше, сейчас это более заметно. Буквально сегодня мы были в Москвариуме, и когда я стал благодарить за прекрасные лекции, экскурсовод говорит: «Знаете, с вашей школой никогда не было проблем, всегда такие внимательные дети, любознательные, поэтому мне очень приятно с вами работать». То есть, это взаимно оказалось.
— То есть, можно сказать о том, что отношение к незрячим в общественных местах, например, в тех же музеях, изменилось сейчас в лучшую сторону?
— Может, тогда я просто этого не замечал, а сейчас я вижу это снаружи, как организатор, как взрослый человек. В некоторых музеях я неоднократно было за свою педагогическую деятельность, как классный руководитель. Один класс выпустил, с 6 по 12 класс, вот сейчас уже второй год веду следующий класс.
— У Вас старшие классы, не начальная школа?
— Да, я работаю в среднем и старшем звене.
— Расскажите, а как Вы решили стать преподавателем? Возможно, Вас вдохновил кто-то на такой выбор профессии?
— Если говорить, почему я выбрал такую профессию, то здесь я могу сказать, что моим вдохновителем стал Владимир Вячеславович Соколов. Мы сейчас с ним работаем параллельно. На тот момент, когда я был в 6 классе, он преподавал у меня информатику. И мне хотелось достичь тех же высот; я понял, что незрячие люди могут быть преподавателями, интересными преподавателями, заслуживать уважение учеников. Я его действительно очень уважал и уважаю как преподавателя, как человека. Не жалею, что все сложилось так, что я пришел работать и мы работаем, так сказать, рука об руку — я тоже преподаю информатику.
Но решение стать преподавателем я принял не сразу. Обучаясь в школе, я долгое время не знал, кем быть. Постепенно понимал, в каких областях я могу работать, а в каких нет.
— Как долго Вы преподаете в школе?
— Я преподаю с 2006 года, скоро будет 15 лет моей преподавательской деятельности.
— А где Вы получили педагогическое образование?
— Московский государственный открытый университет, потом курсы по тифлопедагогике. На этом курсе мне очень понравилось общение с преподавателями, его читали люди, которые сделали большой вклад в тифлопедагогику, у них многолетний опыт. Пообщаться с ними было замечательно, это была отчасти передача личного опыта — они рассказывали о том, как выходили из различных трудных ситуаций, связанных с преподаванием.
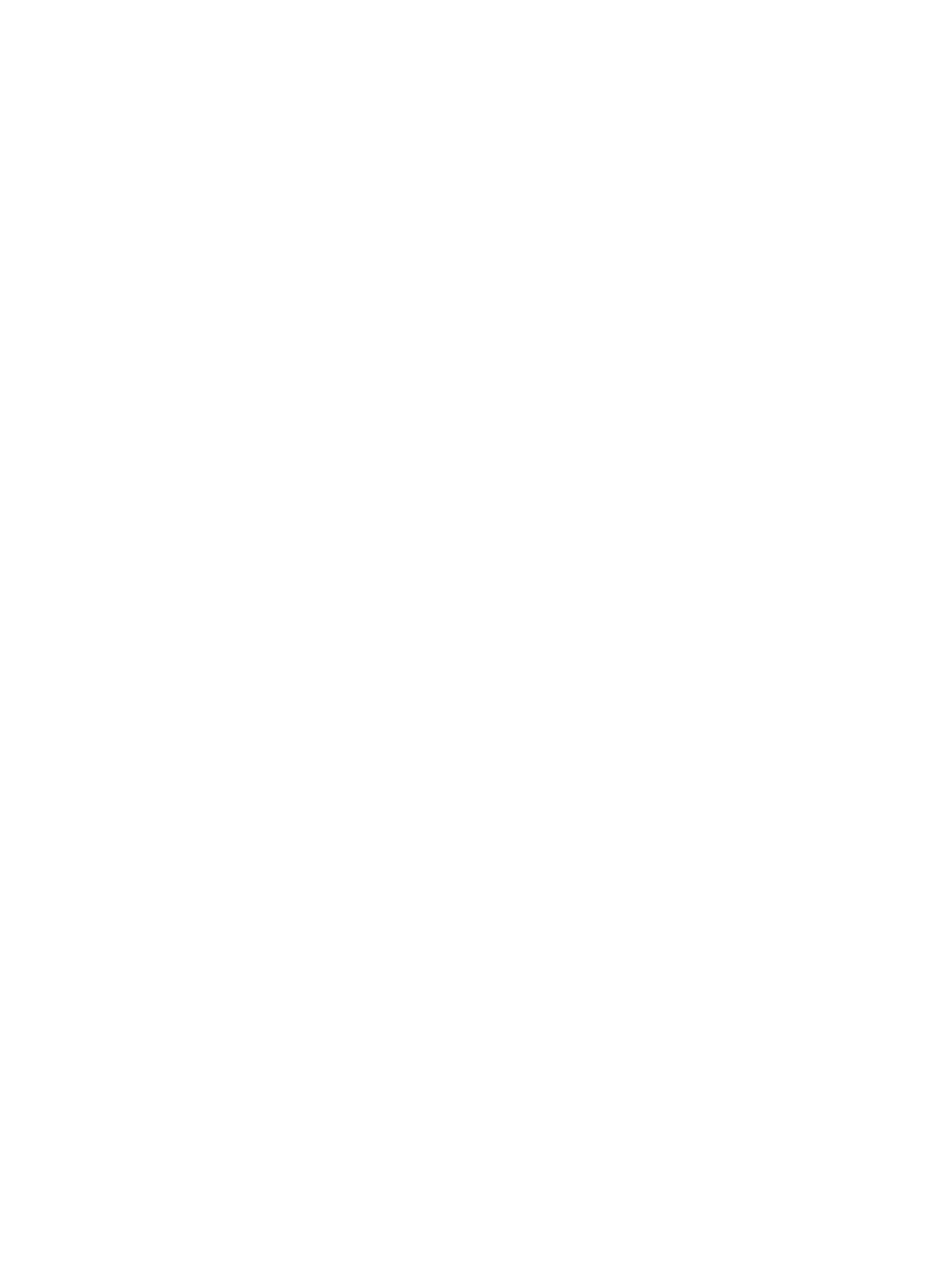
— Наш проект о массаже, поэтому не могу не спросить, были ли у Вас мысли освоить эту профессию?
— Когда я заканчивал школу, у нас были факультативные занятия по массажу. Те, кто хотел, занимались либо для себя, либо для будущей профессии. Я прошёл эти курсы для себя, какие-то азы освоил. Мы практиковались много, у нас был хороший преподаватель, наш выпускник. Он наглядно показывал, чего может добиться незрячий в массаже.
— Расскажите немного про специфику работы, какие есть, например, предметы, которых нет в обычных школах?
Из таких предметов у нас есть тифлографика, это аналог рисования, черчения. Ещё социально-бытовая ориентировка, то есть, обучение бытовым навыкам. Если зрячий ребенок видит дома, как это всё происходит, нашим надо показывать, обучать, так как отсутствует наглядность, визуальный опыт. Ещё есть предмет «ориентировка в пространстве».
— Эти предметы появились сейчас или были и раньше?
— Социально-бытовая ориентировка была, ориентировка в пространстве не была обязательной для всех, сейчас ей обучаются все дети, навык должен иметь каждый.
— Интересно было бы поговорить о разнице между тем, что было, когда вы учились и нынешним временем: и в плане системы, и в плане поколений. Давайте начнём с того, что касается учебных методик: сильно ли они изменились, например, за счёт развития технологий?
— Безусловно, и педагогика шагает вперед, появляются пособия, о которых мы раньше и не мечтали, и в плане технологий. Появились технологии, которые позволяют создать рельефные пособия, причём не на специальном производстве. Есть принтер, в который надо вложить специальный лист бумаги, на нём чернилами распечатать схему, чертёж, карту. После чего он пропускается через специальный нагревательный прибор, там, где есть краска, лист вспучивается и получается рельефное изображение. То есть, без всяких промышленных условий, мы можем изготовить рельефный чертеж.
— А как давно появилась такая технология?
Нам она стала доступна где-то в 2005-2007 году, как наладились торговые отношения с западными странами. Техника, которая появляется там, через 1-3 месяца доступна нам.
Что касается системы в целом, набор предметов не изменился, а изменились требования к уровню подготовки. Появились новые темы, которые раньше были для дополнительного обучения, а сейчас стали обязательными.
— А как происходило обучение весной, во время карантина?
— Школа официально перешла на скайп, в апреле, в мае мы обучались дистанционно.
— Как вы думаете, это сказалось на уровне обучения? Ведь даже из обычных школ многие учителя жаловались, что дистанционное обучение сильно нарушило учебный процесс.
— Конечно. Максимальная отдача может быть только в школе. Например, мне, чтобы объяснить ученикам геометрию, надо дать им чертеж в руки. Словами долго можно рассказывать, но главное – это наглядность. Сложности возникали там, где надо показывать руками, там, где графики, диаграммы. Хорошо, если, скажем, только формула нужна для решения задач, такие задачи мы можем решать дистанционно сколько угодно.
— Куда обычно идут выпускники после школы?
— Получать либо высшее, либо среднее специальное образование, в массажный колледж.
Тут зависит от способностей, если человек предрасположен к массажу, не любого можно туда отправить. Человек должен понимать, что это труд, труд физический, непростой. И быть психологом в какой-то мере надо, чтобы помогать людям.
А если говорить про высшие учебные заведения, то тут спектр разнообразный, но не бесконечный. Кто интересуется языками, становятся переводчиками, лингвистами, историки есть, учителя, программисты. Математики тоже, в советские годы многие закончили мехмат МГУ.
— Как проходят итоговые экзамены в школе?
— Наши ребята, как и все остальные, сдают ЕГЭ. Сдают его по Брайлю, в специально созданных условиях, набирают баллы и точно так же идут в университеты.
Когда я заканчивал школу, мы сдавали два предмета. Были разные периоды, люди, которые учились примерно на год старше меня, сдавали чуть ли не пять предметов, два основных, три на выбор. Когда я, сдавали только русский и математику, всё остальное сдавалось в университете при поступлении.
— В каком формате проходили вступительные экзамены в университет?
— Приходилось в каждом отдельном случае договариваться. О том, что условия экзаменационного билета должны быть прочитаны, поступающий пишет по системе Брайля, потом, вне времени экзамена, передиктовывает свои решения ассистенту, как правило, это были студенты старших курсов.
— Есть ли возможность для незрячего человека зарабатывать, не имея высшего образования? Скажем, занимаясь изготовлением различных вещей своими руками и их продажей?
— Есть шанс, но я всё-таки не стал бы полагаться на это. Мне не известны люди, которые живут только за счёт этого. Как хобби – да, как поддержка в эмоциональном плане – я сделал своими руками, я подарил кому-то замечательную вещь, вместе с ней положительные эмоции передал. Взамен получил оплату, так как потратил материал и время. Регулярно проходят выставки, где не только незрячие, но и другие люди с ОВЗ представляют свои поделки, жюри оценивает их. Люди соревнуются и делают это, наверно, не из-за денег, а потому что у них есть такое желание в душе.
— Давайте затронем извечную тему разницы поколений, которая, на мой взгляд, всегда актуальна для преподавателей.
— Да, это извечная тема, поколения меняются всегда. Надо действовать, учитывая опыт, но с оглядкой на ситуацию и на то поколение, которое сейчас развивается. Потому что в каких-то моментах, скажем, в плане освоения новых программ, технологий, порой дети обгоняют нас, могут то, чего мы не умеем, всё новое они принимают с легкостью. Тут нужно уметь перестраиваться – чтобы быть интересным для ученика, ты должен соответствовать определённому уровню и современным тенденциям.
У нас в школе работают профессионалы. Не все выдерживают такого темпа работы, такой нагрузки, ответственности. Я считаю, что мне просто повезло попасть в московскую школу; я получил хорошее школьное образование и сейчас пытаюсь продолжить эту традицию.
Интервью провела Анна Железнякова.
— Когда я заканчивал школу, у нас были факультативные занятия по массажу. Те, кто хотел, занимались либо для себя, либо для будущей профессии. Я прошёл эти курсы для себя, какие-то азы освоил. Мы практиковались много, у нас был хороший преподаватель, наш выпускник. Он наглядно показывал, чего может добиться незрячий в массаже.
— Расскажите немного про специфику работы, какие есть, например, предметы, которых нет в обычных школах?
Из таких предметов у нас есть тифлографика, это аналог рисования, черчения. Ещё социально-бытовая ориентировка, то есть, обучение бытовым навыкам. Если зрячий ребенок видит дома, как это всё происходит, нашим надо показывать, обучать, так как отсутствует наглядность, визуальный опыт. Ещё есть предмет «ориентировка в пространстве».
— Эти предметы появились сейчас или были и раньше?
— Социально-бытовая ориентировка была, ориентировка в пространстве не была обязательной для всех, сейчас ей обучаются все дети, навык должен иметь каждый.
— Интересно было бы поговорить о разнице между тем, что было, когда вы учились и нынешним временем: и в плане системы, и в плане поколений. Давайте начнём с того, что касается учебных методик: сильно ли они изменились, например, за счёт развития технологий?
— Безусловно, и педагогика шагает вперед, появляются пособия, о которых мы раньше и не мечтали, и в плане технологий. Появились технологии, которые позволяют создать рельефные пособия, причём не на специальном производстве. Есть принтер, в который надо вложить специальный лист бумаги, на нём чернилами распечатать схему, чертёж, карту. После чего он пропускается через специальный нагревательный прибор, там, где есть краска, лист вспучивается и получается рельефное изображение. То есть, без всяких промышленных условий, мы можем изготовить рельефный чертеж.
— А как давно появилась такая технология?
Нам она стала доступна где-то в 2005-2007 году, как наладились торговые отношения с западными странами. Техника, которая появляется там, через 1-3 месяца доступна нам.
Что касается системы в целом, набор предметов не изменился, а изменились требования к уровню подготовки. Появились новые темы, которые раньше были для дополнительного обучения, а сейчас стали обязательными.
— А как происходило обучение весной, во время карантина?
— Школа официально перешла на скайп, в апреле, в мае мы обучались дистанционно.
— Как вы думаете, это сказалось на уровне обучения? Ведь даже из обычных школ многие учителя жаловались, что дистанционное обучение сильно нарушило учебный процесс.
— Конечно. Максимальная отдача может быть только в школе. Например, мне, чтобы объяснить ученикам геометрию, надо дать им чертеж в руки. Словами долго можно рассказывать, но главное – это наглядность. Сложности возникали там, где надо показывать руками, там, где графики, диаграммы. Хорошо, если, скажем, только формула нужна для решения задач, такие задачи мы можем решать дистанционно сколько угодно.
— Куда обычно идут выпускники после школы?
— Получать либо высшее, либо среднее специальное образование, в массажный колледж.
Тут зависит от способностей, если человек предрасположен к массажу, не любого можно туда отправить. Человек должен понимать, что это труд, труд физический, непростой. И быть психологом в какой-то мере надо, чтобы помогать людям.
А если говорить про высшие учебные заведения, то тут спектр разнообразный, но не бесконечный. Кто интересуется языками, становятся переводчиками, лингвистами, историки есть, учителя, программисты. Математики тоже, в советские годы многие закончили мехмат МГУ.
— Как проходят итоговые экзамены в школе?
— Наши ребята, как и все остальные, сдают ЕГЭ. Сдают его по Брайлю, в специально созданных условиях, набирают баллы и точно так же идут в университеты.
Когда я заканчивал школу, мы сдавали два предмета. Были разные периоды, люди, которые учились примерно на год старше меня, сдавали чуть ли не пять предметов, два основных, три на выбор. Когда я, сдавали только русский и математику, всё остальное сдавалось в университете при поступлении.
— В каком формате проходили вступительные экзамены в университет?
— Приходилось в каждом отдельном случае договариваться. О том, что условия экзаменационного билета должны быть прочитаны, поступающий пишет по системе Брайля, потом, вне времени экзамена, передиктовывает свои решения ассистенту, как правило, это были студенты старших курсов.
— Есть ли возможность для незрячего человека зарабатывать, не имея высшего образования? Скажем, занимаясь изготовлением различных вещей своими руками и их продажей?
— Есть шанс, но я всё-таки не стал бы полагаться на это. Мне не известны люди, которые живут только за счёт этого. Как хобби – да, как поддержка в эмоциональном плане – я сделал своими руками, я подарил кому-то замечательную вещь, вместе с ней положительные эмоции передал. Взамен получил оплату, так как потратил материал и время. Регулярно проходят выставки, где не только незрячие, но и другие люди с ОВЗ представляют свои поделки, жюри оценивает их. Люди соревнуются и делают это, наверно, не из-за денег, а потому что у них есть такое желание в душе.
— Давайте затронем извечную тему разницы поколений, которая, на мой взгляд, всегда актуальна для преподавателей.
— Да, это извечная тема, поколения меняются всегда. Надо действовать, учитывая опыт, но с оглядкой на ситуацию и на то поколение, которое сейчас развивается. Потому что в каких-то моментах, скажем, в плане освоения новых программ, технологий, порой дети обгоняют нас, могут то, чего мы не умеем, всё новое они принимают с легкостью. Тут нужно уметь перестраиваться – чтобы быть интересным для ученика, ты должен соответствовать определённому уровню и современным тенденциям.
У нас в школе работают профессионалы. Не все выдерживают такого темпа работы, такой нагрузки, ответственности. Я считаю, что мне просто повезло попасть в московскую школу; я получил хорошее школьное образование и сейчас пытаюсь продолжить эту традицию.
Интервью провела Анна Железнякова.
Поделиться с друзьями