Тифлокомментесса
В гостях у проекта «Трогает» Вера Берлинова (Февральских) — тифлокомментесса, фем- и инваактивистка, художница, кураторка инклюзивных проектов.
— Расскажите немного о себе, о своём образовании, о том, как вы начали работать в этой сфере?
— На самом деле, я очень издалека могу начать, потому что всё это происходило в рамках поисков себя. Сейчас я себя позиционирую по-разному, но чаще как тифлокоментессу, как инва-активистку, фем-активистку, художницу, то есть я занимаюсь разным активизмом в сфере защиты прав людей с инвалидностью, защиты прав женщин. И занимаюсь разными видами инклюзии, изучаю что-то новое для себя постоянно.
Потом отдельно немного расскажу про художественную деятельность, потому что основная часть интервью будет про меня как про тифлокомментессу, но то, чем я занимаюсь в художественном плане, это тоже связано с инклюзией.
Я училась на следователя, то есть у меня юридическое образование.
— На самом деле, я очень издалека могу начать, потому что всё это происходило в рамках поисков себя. Сейчас я себя позиционирую по-разному, но чаще как тифлокоментессу, как инва-активистку, фем-активистку, художницу, то есть я занимаюсь разным активизмом в сфере защиты прав людей с инвалидностью, защиты прав женщин. И занимаюсь разными видами инклюзии, изучаю что-то новое для себя постоянно.
Потом отдельно немного расскажу про художественную деятельность, потому что основная часть интервью будет про меня как про тифлокомментессу, но то, чем я занимаюсь в художественном плане, это тоже связано с инклюзией.
Я училась на следователя, то есть у меня юридическое образование.
Следователем я не проработала ни дня в своей жизни.
Но следователем я не проработала ни дня в своей жизни, работала в Минюсте около двух лет, в аппарате уполномоченного при Европейском суде по правам человека. То есть это такая сфера гуманитарных прав, защиты прав человека. И после двух с половиной лет тяжелой работы в ведомстве, на чиновничьей службе, у меня возникла острая потребность в общении с людьми, то есть, в таком живом общении с разными людьми. Я поняла, что всегда хотела работать в сфере культуры, всегда хотела быть переводчицей, и я стала искать разные способы что-то пробовать, в том числе два года учила русский жестовый язык в Центре образования глухих и жестового языка им. Г. Л. Зайцевой, но поняла, что это не моё.
Я уволилась из Минюста, не совсем понимала, куда дальше идти. И вот мой близкий человек, который обучал меня жестовому языку в том числе, он преподаватель, Павел Сергеевич Трошинкин – если он будет это читать, ему большой привет – он меня привел на курс тифлокомментирования. Это были первые курсы тифлокомментирования в 2011 году в институте РЕАКОМП, никто тогда вообще об этом ничего не знал, я тоже, соответственно, не знала. Но вот мой преподаватель сказал: «Слушай, за этим будущее, иди и у тебя всё получится». Я пришла, прошла тестирование – пришло очень много людей тестироваться, но не все прошли. Обучение у нас, по-моему, длилось три месяца. Мы начали с тестирования в сентябре и в конце ноября мы закончили. И в итоге я была в числе тех двадцати или даже меньше, десяти, кто дошел до конца, получил сертификаты. Потом я осталась работать в институте, и вот дальше вся моя жизнь была связана с темой инклюзии, с перерывами на какие-то работы и подработки, потому что, к сожалению, в первое время это вообще не приносило никакого дохода. Где-то с 2016 года всё резко закрутилось, завертелось, и я стала зарабатывать на жизнь в основном только тифлокомментированием и работой в сфере инклюзии.
— Как именно возникла идея пойти в сферу помощи незрячим? Может быть, в Вашем окружении были незрячие люди или какие-то ситуации, которые повлияли на это решение?
— Есть какие-то вопросы на которые я сама себе ещё не могу ответить. В моем окружении не было близких людей с инвалидностью по зрению. Все мои бабушки и дедушки были на тот момент ещё довольно молодые и у них не было проблем со зрением. Людей с нарушениями слуха я встречала периодически, но тоже не могу сказать, что это были прям близкие мне люди.
У меня у самой очень слабое зрение, и я в последнее время позиционирую себя как человека, находящегося в такой «предграничной зоне», то есть у меня нет инвалидности по зрению, и линзы мне полностью компенсируют мои проблемы со зрением, у меня -10. Но в детстве я испытывала сильный дискомфорт, зрение у меня тогда было на уровне -5-4, но была слабая диагоностика, плохие очки, плохие условии обучения в школе: вот эта отвратительная доска, на которой ничего не было видно… Постоянно сажали на 3-4 парты, ругались на меня из-за почерка. Вот сейчас вспоминаю, тогда это всё не казалось чем-то таким, что формировало меня, но сейчас я понимаю, что всё же формировало. У меня очень сильно развита тактильность, я с миром коммуницирую через тактильные ощущения, очень большую роль играет в моей жизни воображение. Но это я сейчас понимаю, что всё это связано с тем, что в детстве я испытывала трудности коммуникации с миром или видела его по-своему. Наверно, на интуитивном уровне я пошла в сферу инклюзии. Я изначально хотела быть переводчицей, на тот момент знала уже три языка и хотела учить жестовый язык, он меня привлекал, казался очень перформативным, таким красивым, интересным. Но потом случайно пришла в общество незрячих и слабовидящих людей и поняла, что это прям моё, здесь сошлись все «ниточки», всё, что мне хотелось бы видеть в работе своей мечты. Видимо, сошлись вот эти пересечения из детства, какие-то мои особенности и пожелания, наверно так.
— Расскажите про специфику работы, как осуществляются проекты?
— У меня нет такой работы, на которой я провожу целый день, наверно, уже с 2015 года. Сначала мне какой-то дискомфорт это доставляло, никогда не знаешь на фрилансе, когда у тебя будут заказы. Вот сейчас у меня скоро появится такая работа – одна из моих работ будет постоянной, я буду работать в институте РЕАКОМП. Но всё равно большая часть проектов, работ остаются в области фриланса. У меня много разных проектов, с разными музеями, крупными киностудиями, театрами, ещё у меня есть моя арт-деятельность, за которую удается получать какие-то небольшие деньги, но это всё достаточно свободно и стихийно.
Я уволилась из Минюста, не совсем понимала, куда дальше идти. И вот мой близкий человек, который обучал меня жестовому языку в том числе, он преподаватель, Павел Сергеевич Трошинкин – если он будет это читать, ему большой привет – он меня привел на курс тифлокомментирования. Это были первые курсы тифлокомментирования в 2011 году в институте РЕАКОМП, никто тогда вообще об этом ничего не знал, я тоже, соответственно, не знала. Но вот мой преподаватель сказал: «Слушай, за этим будущее, иди и у тебя всё получится». Я пришла, прошла тестирование – пришло очень много людей тестироваться, но не все прошли. Обучение у нас, по-моему, длилось три месяца. Мы начали с тестирования в сентябре и в конце ноября мы закончили. И в итоге я была в числе тех двадцати или даже меньше, десяти, кто дошел до конца, получил сертификаты. Потом я осталась работать в институте, и вот дальше вся моя жизнь была связана с темой инклюзии, с перерывами на какие-то работы и подработки, потому что, к сожалению, в первое время это вообще не приносило никакого дохода. Где-то с 2016 года всё резко закрутилось, завертелось, и я стала зарабатывать на жизнь в основном только тифлокомментированием и работой в сфере инклюзии.
— Как именно возникла идея пойти в сферу помощи незрячим? Может быть, в Вашем окружении были незрячие люди или какие-то ситуации, которые повлияли на это решение?
— Есть какие-то вопросы на которые я сама себе ещё не могу ответить. В моем окружении не было близких людей с инвалидностью по зрению. Все мои бабушки и дедушки были на тот момент ещё довольно молодые и у них не было проблем со зрением. Людей с нарушениями слуха я встречала периодически, но тоже не могу сказать, что это были прям близкие мне люди.
У меня у самой очень слабое зрение, и я в последнее время позиционирую себя как человека, находящегося в такой «предграничной зоне», то есть у меня нет инвалидности по зрению, и линзы мне полностью компенсируют мои проблемы со зрением, у меня -10. Но в детстве я испытывала сильный дискомфорт, зрение у меня тогда было на уровне -5-4, но была слабая диагоностика, плохие очки, плохие условии обучения в школе: вот эта отвратительная доска, на которой ничего не было видно… Постоянно сажали на 3-4 парты, ругались на меня из-за почерка. Вот сейчас вспоминаю, тогда это всё не казалось чем-то таким, что формировало меня, но сейчас я понимаю, что всё же формировало. У меня очень сильно развита тактильность, я с миром коммуницирую через тактильные ощущения, очень большую роль играет в моей жизни воображение. Но это я сейчас понимаю, что всё это связано с тем, что в детстве я испытывала трудности коммуникации с миром или видела его по-своему. Наверно, на интуитивном уровне я пошла в сферу инклюзии. Я изначально хотела быть переводчицей, на тот момент знала уже три языка и хотела учить жестовый язык, он меня привлекал, казался очень перформативным, таким красивым, интересным. Но потом случайно пришла в общество незрячих и слабовидящих людей и поняла, что это прям моё, здесь сошлись все «ниточки», всё, что мне хотелось бы видеть в работе своей мечты. Видимо, сошлись вот эти пересечения из детства, какие-то мои особенности и пожелания, наверно так.
— Расскажите про специфику работы, как осуществляются проекты?
— У меня нет такой работы, на которой я провожу целый день, наверно, уже с 2015 года. Сначала мне какой-то дискомфорт это доставляло, никогда не знаешь на фрилансе, когда у тебя будут заказы. Вот сейчас у меня скоро появится такая работа – одна из моих работ будет постоянной, я буду работать в институте РЕАКОМП. Но всё равно большая часть проектов, работ остаются в области фриланса. У меня много разных проектов, с разными музеями, крупными киностудиями, театрами, ещё у меня есть моя арт-деятельность, за которую удается получать какие-то небольшие деньги, но это всё достаточно свободно и стихийно.
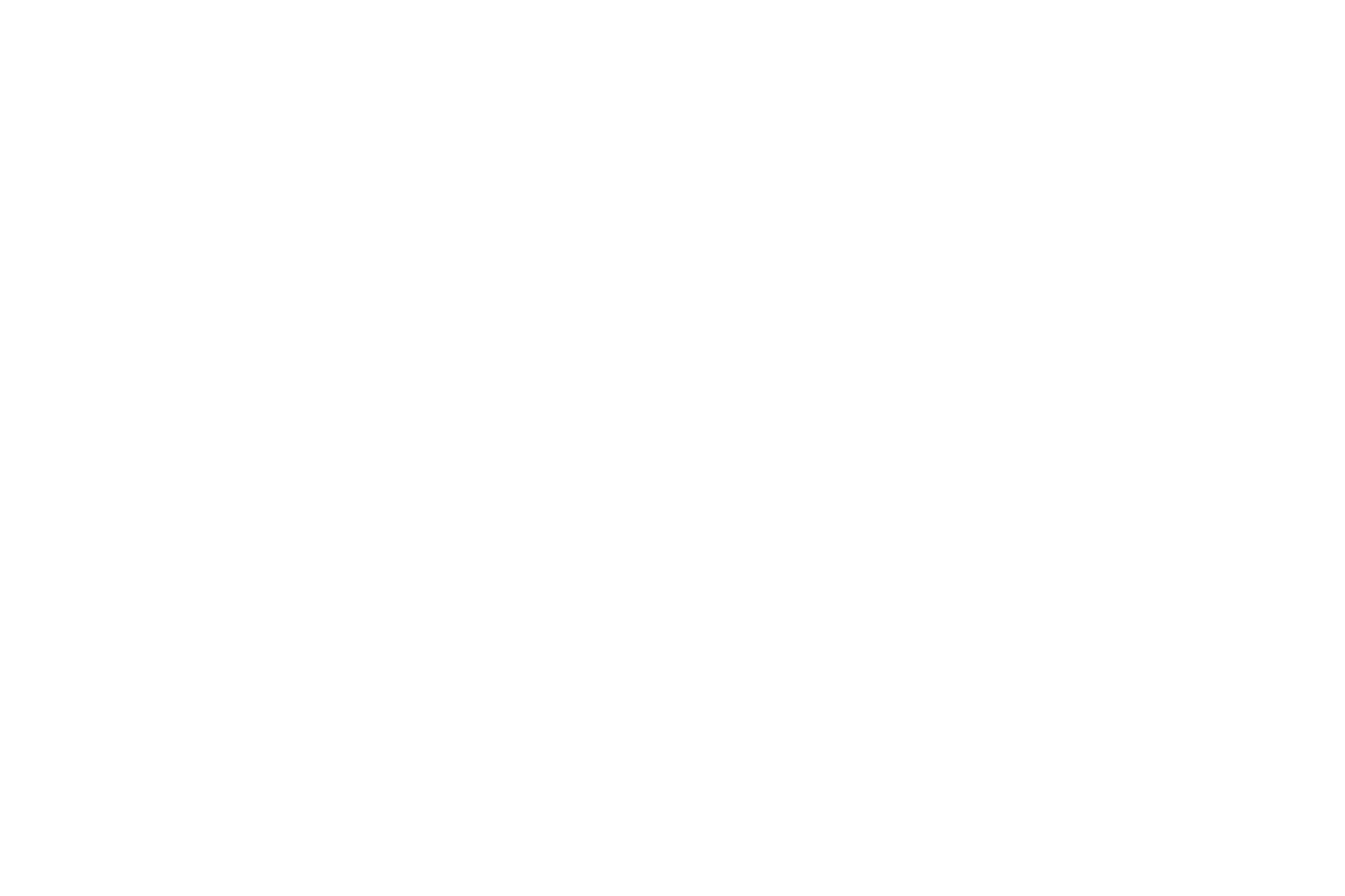
— А как происходит непосредственно рабочий процесс?
— В зависимости от того где это происходит, в музеях, театрах, кино, всё по-разному. Если это кино, то обычно я сама договариваюсь со студией, или какая-то студия, которой я очень доверяю, с которой мы давно сотрудничаем, мне звонит. Они мне присылают фильм, я к нему делаю тифлокомментарий, потом мы договариваемся, либо я сама озвучиваю этот текст, либо диктор озвучивает в моем присутствии, под мои чутким контролем, а потом эта дорожка сводится. То есть практически вся работа происходит удалённо, я пишу вот этот текст, один или два раза приезжаю на студию, мы записываем и всё, на этом моя работа заканчивается, дальше уже студия сама всё это сводит. Если это кинофестиваль, то там очень много работы, надо организовывать всё, находить деньги, если у самого фестиваля нет, организовывать технические службы, приглашать зрителей, это очень большая работа. И плюс нужно к фильму написать тифлокомментарий и прийти на кинофестиваль его прокомментировать.
Если это работа в театре, здесь тоже по-разному бывает. Если есть грант какой-то, нужно вдохновить, стимулировать театр, чтобы они подали заявку на этот грант, иногда они сами очень активные, сами всё это делают, подают и потом от грантодателя получают деньги. Тогда заключается договор с театром, договариваемся о датах, обговариваем на какие спектакли мы хотим делать тифлокоментарий. Здесь тоже мы напополам делим работу с театром, то есть мы приглашаем зрителей, организовываем всё технически. Я пишу комментарий, прихожу на показ, правлю его, если нужно, и потом на каждый показ прихожу и вживую провожу тифлокомментирование.
Потом ещё есть работа в музеях, сейчас в основном онлайн-мероприятия. С музеями так: они высылают фотографии объектов, к которым нужно написать тифлокомментарий, я удалённо пишу и либо передаю экскурсоводу и он читает, упоминая меня как автора этих комментариев, либо я сама приезжаю на экскурсию, и мы вместе с экскурсоводом её проводим, либо я отдельно приезжаю и сама провожу. То есть, часть работы удалённая, часть требует моего живого присутствия.
— В зависимости от того где это происходит, в музеях, театрах, кино, всё по-разному. Если это кино, то обычно я сама договариваюсь со студией, или какая-то студия, которой я очень доверяю, с которой мы давно сотрудничаем, мне звонит. Они мне присылают фильм, я к нему делаю тифлокомментарий, потом мы договариваемся, либо я сама озвучиваю этот текст, либо диктор озвучивает в моем присутствии, под мои чутким контролем, а потом эта дорожка сводится. То есть практически вся работа происходит удалённо, я пишу вот этот текст, один или два раза приезжаю на студию, мы записываем и всё, на этом моя работа заканчивается, дальше уже студия сама всё это сводит. Если это кинофестиваль, то там очень много работы, надо организовывать всё, находить деньги, если у самого фестиваля нет, организовывать технические службы, приглашать зрителей, это очень большая работа. И плюс нужно к фильму написать тифлокомментарий и прийти на кинофестиваль его прокомментировать.
Если это работа в театре, здесь тоже по-разному бывает. Если есть грант какой-то, нужно вдохновить, стимулировать театр, чтобы они подали заявку на этот грант, иногда они сами очень активные, сами всё это делают, подают и потом от грантодателя получают деньги. Тогда заключается договор с театром, договариваемся о датах, обговариваем на какие спектакли мы хотим делать тифлокоментарий. Здесь тоже мы напополам делим работу с театром, то есть мы приглашаем зрителей, организовываем всё технически. Я пишу комментарий, прихожу на показ, правлю его, если нужно, и потом на каждый показ прихожу и вживую провожу тифлокомментирование.
Потом ещё есть работа в музеях, сейчас в основном онлайн-мероприятия. С музеями так: они высылают фотографии объектов, к которым нужно написать тифлокомментарий, я удалённо пишу и либо передаю экскурсоводу и он читает, упоминая меня как автора этих комментариев, либо я сама приезжаю на экскурсию, и мы вместе с экскурсоводом её проводим, либо я отдельно приезжаю и сама провожу. То есть, часть работы удалённая, часть требует моего живого присутствия.
У нас очень много визуальной информации, поэтому мы смотрим на что-то, но в тоже самое время мы этого не видим.
— Какие самые нетипичные мероприятия вы тифлокомментировали?
Я столько за эти 10 лет занималась тифлокомментированием, мне уже хочется немножко больше исследовать эту тему, в основном я сейчас занимаюсь тем, что исследую тифлокомментарий, и альтернативный текст как отдельный арт-объект. То есть, являются ли они чем-то вспомогательным или самостоятельным арт-объектом. Если говорить о вспомогательной функции, то из нетипичного у меня был шахматный турнир в Ханты-Мансийске, это было интересно. Потом я тифлокомментировала прогулку, на которой незрячие и зрячие вместе занимались скандинавской ходьбой в одном из парков Москвы. Я тифлокомментировала им пейзажи, которые открывались по мере того, как мы двигались по берегу живописного озера и по парку.
Одна моя знакомая снимала фильм про незрячую девушку, которая играет в театре, в том числе она меня снимала в этом фильме как тифлокомментессу, я рассказывал про свой опыт. Это был конец мая или июнь, и она предложила в Петербурге снять как я тифлокомментирую героине фильма и её подруге разведение мостов. Это было очень интересный опыт, я рассказывала всё то, что сопровождает разведение мостов – где мы находимся, что под ногами шуршит мелкий гравий, мы трогали разные поверхности, кладку на набережной, понюхали ароматы цветов. Там было очень много людей, я их также описала, а они спрашивали, что мы делаем, я им рассказывала. И потом я описывала сам момент разведения мостов – пейзаж урбанистический, цвет неба и воды как меняется, краски белой ночи. Это было какое-то новое ощущение пространства вокруг нас, мне кажется, даже зрячим людям интересно было бы это послушать. У нас очень много визуальной информации, поэтому мы смотрим на что-то, но в тоже самое время мы этого не видим. Наше внимание нужно сфокусировать на чем-то, чтобы мы увидели. Так и работает тифлокомментарий. Мне об этом часто говорят посетители музеев или театров, зрячие, которые слушают тифлокомментарий, что без него впечатление было бы не совсем полным.
Также экспериментирую у себя в Instagram, все фотографии и изображения, которые я выкладываю, я тифлокомментирую в постах и я иногда тифлокомментирую несуществующие изображения. То есть, изображдения нет, а тифлокомментарий есть. Таким образом пытаюсь исследовать тему видимого-невидимого, существующего-несуществующего. Один раз я тифлокомментировала обложку альбома для своих друзей, группа называется «Монастырское быдло», у них очень коллажная обложка альбома была, я ее протифлокомментировала по их просьбе, потом они из тифлокомментария сделали отдельный трек. Это был интересный эксперимент.
Я столько за эти 10 лет занималась тифлокомментированием, мне уже хочется немножко больше исследовать эту тему, в основном я сейчас занимаюсь тем, что исследую тифлокомментарий, и альтернативный текст как отдельный арт-объект. То есть, являются ли они чем-то вспомогательным или самостоятельным арт-объектом. Если говорить о вспомогательной функции, то из нетипичного у меня был шахматный турнир в Ханты-Мансийске, это было интересно. Потом я тифлокомментировала прогулку, на которой незрячие и зрячие вместе занимались скандинавской ходьбой в одном из парков Москвы. Я тифлокомментировала им пейзажи, которые открывались по мере того, как мы двигались по берегу живописного озера и по парку.
Одна моя знакомая снимала фильм про незрячую девушку, которая играет в театре, в том числе она меня снимала в этом фильме как тифлокомментессу, я рассказывал про свой опыт. Это был конец мая или июнь, и она предложила в Петербурге снять как я тифлокомментирую героине фильма и её подруге разведение мостов. Это было очень интересный опыт, я рассказывала всё то, что сопровождает разведение мостов – где мы находимся, что под ногами шуршит мелкий гравий, мы трогали разные поверхности, кладку на набережной, понюхали ароматы цветов. Там было очень много людей, я их также описала, а они спрашивали, что мы делаем, я им рассказывала. И потом я описывала сам момент разведения мостов – пейзаж урбанистический, цвет неба и воды как меняется, краски белой ночи. Это было какое-то новое ощущение пространства вокруг нас, мне кажется, даже зрячим людям интересно было бы это послушать. У нас очень много визуальной информации, поэтому мы смотрим на что-то, но в тоже самое время мы этого не видим. Наше внимание нужно сфокусировать на чем-то, чтобы мы увидели. Так и работает тифлокомментарий. Мне об этом часто говорят посетители музеев или театров, зрячие, которые слушают тифлокомментарий, что без него впечатление было бы не совсем полным.
Также экспериментирую у себя в Instagram, все фотографии и изображения, которые я выкладываю, я тифлокомментирую в постах и я иногда тифлокомментирую несуществующие изображения. То есть, изображдения нет, а тифлокомментарий есть. Таким образом пытаюсь исследовать тему видимого-невидимого, существующего-несуществующего. Один раз я тифлокомментировала обложку альбома для своих друзей, группа называется «Монастырское быдло», у них очень коллажная обложка альбома была, я ее протифлокомментировала по их просьбе, потом они из тифлокомментария сделали отдельный трек. Это был интересный эксперимент.
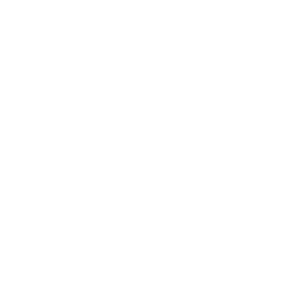
Обложка альбома группы «Монастырское быдло»
В рамках нашей арт-деятельности, вместе с Антоном Рьяновым, моим близким человеком и напарником мы создали арт-группу «Андрогин и Кентавр». Мы делаем разного рода арт, который пересекается с темой инклюзии. В том числе у нас была работа «Песнь Песней», где был и тифлокомментарий, и русский жестовый язык. Мы в своей работе пытались осмыслить насколько тифлокомментарий является вспомогательным или самостоятельным арт-объектом. Мы показывали этот арт на фестивале «Особый взгляд» в Казани, который проходил в марте. Нашу работу отобрали в междисциплинарную программу, я надеюсь, у нее дальше будет какая-то интересная фестивальная судьба. У меня есть желание работать с тифлокомментарием как с чем-то нетипичным в представлении российских пользователей и потребителей.
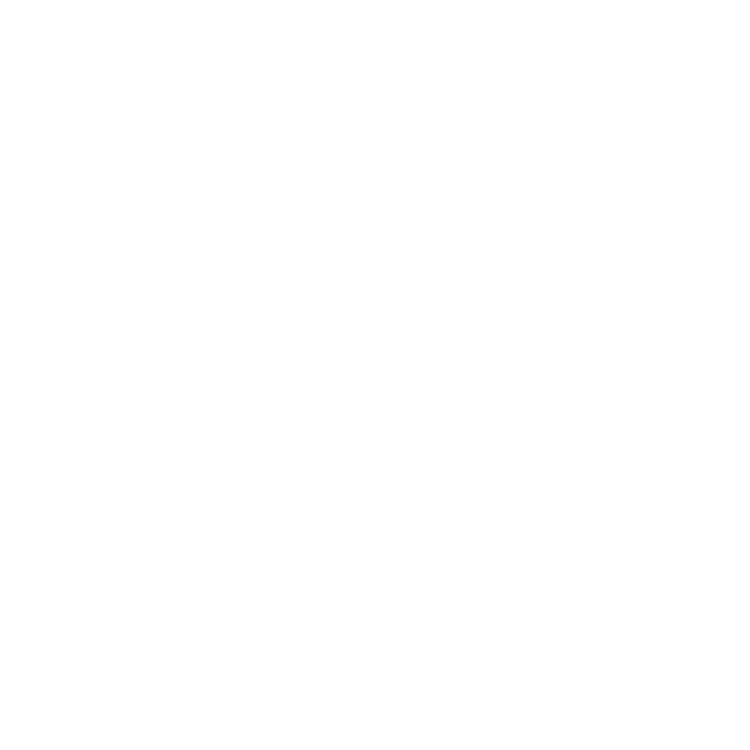
Фрагмент из арта «Андрогин и Кентавр». Фото: Роман Ершов.
— То есть, можно сказать, что в западных странах эта сфера более развита?
— Этот процесс у них не прерывался, а у нас был перерыв большой, от перестройки до 2000-х. И до 2015 примерно это очень медленно развивалось, сейчас более динамично, я думаю, если у нас не будет никакого перерыва в дальнейшем, то в развитии тифлокомментирования у нас не будет никакой разницы. Не во всех странах запада это развивается так же динамично, и зарубежные специалисты интересуются опытом российских. Не могу сказать, что развито во всех странах лучше, чем у нас.
— Как Вам кажется, за то время, пока Вы работаете в этой сфере, изменилось ли отношение людей, стали ли больше понимать, зачем нужна инклюзия?
— Да, я могу сказать, что всё достаточно сильно изменилось с 2011 года, с тех пор, как я получила своё удостоверение тифлокомментатора. Значительно поменялось отношение. Но я хочу сказать, что всё это как-то волнами происходит. С 2011 до 2016 было затишье, всё плохо развивалось, с 2016 до 2018 был всплеск, много заказов, заинтересованности. В кино это регламентировано законодательно, чтобы был тифлокомментарий к национальному фильму, выходящему в прокат, и когда создатели кинопродукции нашли пробелы в законодательстве и начали ими пользоваться, спрос упал. И у нас много проблем с этим, иногда и тифлодорожки сдают пустые, чтобы фильм вышел в прокат. Это разговор отдельный, я не могу сказать, что в кино к этому был интерес, просто обязали кинопрокатчиков это делать. В сфере кино интерес и запрос на тифлокомментирование напрямую связан с теми деньгами, которое на это выделяет государство и которые можно освоить.
Что касается музеев и театров, стали появляться отдельные активисты, инициативные сознательные институции, они потихоньку двигают эти процессы. Со стороны фондов больше появилось поддержки, стали выделяться деньги на разные проекты.
— А сколько в Москве кинотеатров, в которых доступны тифлокомментарии?
— Это очень трудный вопрос. После того, как грянула пандемия, как мне рассказывали родители незрячих детей, даже в тех кинотеатрах, куда они ходили раньше, они не могут получить услугу тифлокомментирования. Мы с группой активистов пытаемся выяснить, почему эта услуга перестала предоставляться и как с этим бороться. Потому что это нарушение прав человека, прав людей с инвалидностью. Сейчас среди активных незрячих очень популярно приложение «Тифломедиа». В условиях, когда очень мало кинотеатров оборудовано для получения услуги тифлокомментирования, зрительницы и зрители благодаря ему могут загрузить из имеющегося списка тифлокомментарий и прийти в любой необорудованный кинотеатр и посмотреть фильм. К сожалению, не ко всем выходящим фильмам тифлодорожки доступны. И проблема остается нерешенной.
— А есть возможность слушать только на русском? Например, если западный фильм показывают в оригинале, можно получить тифлокомментарий?
— Нет, по закону только национальные фильмы должны выходить в прокат с дорожкой тифлокомментария и субтитрами для глухих. К иностранным фильмам, которые выходят в прокат не готовится тифлокомментарий, за исключением фильмов Disney, к некоторым из них они сами делают тифлокомментарий. Есть еще Netflix, в котором есть тифлокомментарии, но вроде бы только на английском. То есть, к иностранным фильмам только на английском, на русском нет.
— Помимо технических трудностей, какие есть в самой работе? Что сложнее всего поддаётся описанию?
— Наверно, самое сложное – это описание танца, балета, сцен, которые состоят из пластики без диалогов. Сложно описать динамичные сцены со спецэффектами, где очень динамично всё происходит. К такого же рода фильмам я отношу современные мультфильмы, где тоже все динамично. Детский контент вообще мне кажется сложным, потому что там нужно держать внимание маленького зрителя, специальные термины использовать. У каждого жанра есть свои сложности, просто какому-то тифлокомментатору даются танцы, кому-то – фильмы ужасов, кому-то – детский контент. Не могу сказать, что есть что-то очень сложное в этом или в этом, потому что много всего делала, но, наверно, больше всего сложностей с танцами, потому что там нужно четко ухватить образ и передать образность движений, а не перегрузить их детальным описанием.
Ещё, мне кажется, сложно описывать архитектуру и современное искусство. Мой опыт показывает, что человеку, который изучал мало тактильных макетов, связанных с архитектурой, бесполезно объяснять, как выглядит готический собор, например. Если нет макета, просто рассказывать, что над чем надстроено, какие есть детали – бессмысленно. И точно также с современным искусством. У человека должен быть определённый культурный опыт, поэтому помимо тифлокомментатора должна быть большая подготовительная работа – и экскурсовода, и музея, всё вкупе.
— А во всех музеях есть необходимые макеты?
— Не во всех, но сейчас крупные музеи очень много стали делать для инклюзии, незрячих и слабовидящих посетителей, у нас появились студии, которые начали делать качественные макеты. Раньше всего этого не было, каких-то там 5-6 лет, в таком количестве и качестве.
— Этот процесс у них не прерывался, а у нас был перерыв большой, от перестройки до 2000-х. И до 2015 примерно это очень медленно развивалось, сейчас более динамично, я думаю, если у нас не будет никакого перерыва в дальнейшем, то в развитии тифлокомментирования у нас не будет никакой разницы. Не во всех странах запада это развивается так же динамично, и зарубежные специалисты интересуются опытом российских. Не могу сказать, что развито во всех странах лучше, чем у нас.
— Как Вам кажется, за то время, пока Вы работаете в этой сфере, изменилось ли отношение людей, стали ли больше понимать, зачем нужна инклюзия?
— Да, я могу сказать, что всё достаточно сильно изменилось с 2011 года, с тех пор, как я получила своё удостоверение тифлокомментатора. Значительно поменялось отношение. Но я хочу сказать, что всё это как-то волнами происходит. С 2011 до 2016 было затишье, всё плохо развивалось, с 2016 до 2018 был всплеск, много заказов, заинтересованности. В кино это регламентировано законодательно, чтобы был тифлокомментарий к национальному фильму, выходящему в прокат, и когда создатели кинопродукции нашли пробелы в законодательстве и начали ими пользоваться, спрос упал. И у нас много проблем с этим, иногда и тифлодорожки сдают пустые, чтобы фильм вышел в прокат. Это разговор отдельный, я не могу сказать, что в кино к этому был интерес, просто обязали кинопрокатчиков это делать. В сфере кино интерес и запрос на тифлокомментирование напрямую связан с теми деньгами, которое на это выделяет государство и которые можно освоить.
Что касается музеев и театров, стали появляться отдельные активисты, инициативные сознательные институции, они потихоньку двигают эти процессы. Со стороны фондов больше появилось поддержки, стали выделяться деньги на разные проекты.
— А сколько в Москве кинотеатров, в которых доступны тифлокомментарии?
— Это очень трудный вопрос. После того, как грянула пандемия, как мне рассказывали родители незрячих детей, даже в тех кинотеатрах, куда они ходили раньше, они не могут получить услугу тифлокомментирования. Мы с группой активистов пытаемся выяснить, почему эта услуга перестала предоставляться и как с этим бороться. Потому что это нарушение прав человека, прав людей с инвалидностью. Сейчас среди активных незрячих очень популярно приложение «Тифломедиа». В условиях, когда очень мало кинотеатров оборудовано для получения услуги тифлокомментирования, зрительницы и зрители благодаря ему могут загрузить из имеющегося списка тифлокомментарий и прийти в любой необорудованный кинотеатр и посмотреть фильм. К сожалению, не ко всем выходящим фильмам тифлодорожки доступны. И проблема остается нерешенной.
— А есть возможность слушать только на русском? Например, если западный фильм показывают в оригинале, можно получить тифлокомментарий?
— Нет, по закону только национальные фильмы должны выходить в прокат с дорожкой тифлокомментария и субтитрами для глухих. К иностранным фильмам, которые выходят в прокат не готовится тифлокомментарий, за исключением фильмов Disney, к некоторым из них они сами делают тифлокомментарий. Есть еще Netflix, в котором есть тифлокомментарии, но вроде бы только на английском. То есть, к иностранным фильмам только на английском, на русском нет.
— Помимо технических трудностей, какие есть в самой работе? Что сложнее всего поддаётся описанию?
— Наверно, самое сложное – это описание танца, балета, сцен, которые состоят из пластики без диалогов. Сложно описать динамичные сцены со спецэффектами, где очень динамично всё происходит. К такого же рода фильмам я отношу современные мультфильмы, где тоже все динамично. Детский контент вообще мне кажется сложным, потому что там нужно держать внимание маленького зрителя, специальные термины использовать. У каждого жанра есть свои сложности, просто какому-то тифлокомментатору даются танцы, кому-то – фильмы ужасов, кому-то – детский контент. Не могу сказать, что есть что-то очень сложное в этом или в этом, потому что много всего делала, но, наверно, больше всего сложностей с танцами, потому что там нужно четко ухватить образ и передать образность движений, а не перегрузить их детальным описанием.
Ещё, мне кажется, сложно описывать архитектуру и современное искусство. Мой опыт показывает, что человеку, который изучал мало тактильных макетов, связанных с архитектурой, бесполезно объяснять, как выглядит готический собор, например. Если нет макета, просто рассказывать, что над чем надстроено, какие есть детали – бессмысленно. И точно также с современным искусством. У человека должен быть определённый культурный опыт, поэтому помимо тифлокомментатора должна быть большая подготовительная работа – и экскурсовода, и музея, всё вкупе.
— А во всех музеях есть необходимые макеты?
— Не во всех, но сейчас крупные музеи очень много стали делать для инклюзии, незрячих и слабовидящих посетителей, у нас появились студии, которые начали делать качественные макеты. Раньше всего этого не было, каких-то там 5-6 лет, в таком количестве и качестве.
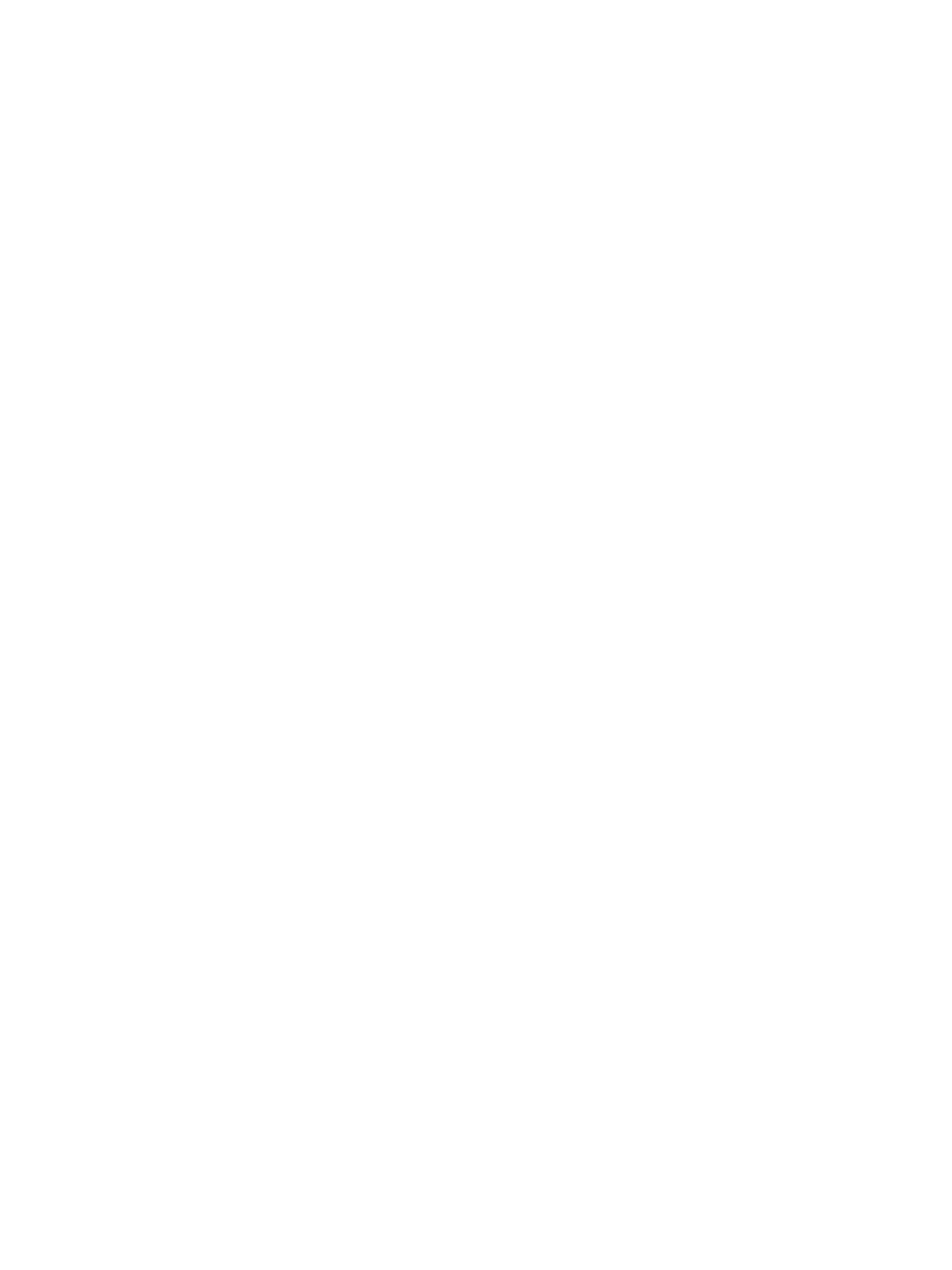
По прошествии времени понимаешь, что твои тифлокомментарии помогают людям формировать культурный пласт, «насмотренность».
— Давайте поговорим про приятные рабочие моменты. Вы общаетесь лично с людьми, которые слушают Ваши тифлокомментарии, чувствуете эмоциональную отдачу от них?
— Да, я всегда стараюсь пообщаться со зрителями, посетителями, получить обратную связь. В кино это редко получается, только на кинофестивалях, где я провожу сама тифлокомментарий и подхожу к зрителям. Для меня это очень важно, я считаю, для каждого это должно быть важно, потому что без обратной связи трудно понять, куда двигаться. Потому что иногда кажется, что вроде всё понятно, хорошо сделано, но везде есть какие-то тонкости. И очень много здесь приятных моментов, люди подходят, благодарят, для них большая радость, что они смогли «увидеть» спектакль.
Очень здорово бывает, когда ты с одними и теми же зрителями работаешь очень долго, вы встречаетесь, обсуждаете новости. Вот у меня был случай, который я очень люблю вспоминать. Когда мама с незрячим подростком подошли ко мне и сказали, что ходили на курс в музей «Гараж», где я тифлокомментировала живопись, в том числе, эпохи Возрождения. И что спустя год или два года они сходили на спектакль «Золотой маски» и увидели эту отсылку, почему цвета именно такие, как на картинах, которые я описывала. То есть, человек увязал один образ с другим. Это то, ради чего стоит работать. Когда по прошествии времени понимаешь, что твои тифлокомментарии помогают людям формировать культурный пласт, «насмотренность» – про незрячего тоже можно употребить этот термин. Это очень здорово, когда люди за такое благодарят.
Или когда подходят и благодарят за тифлокомментарий к спектаклям на социально значимые темы, например, тему домашнего насилия или опыт репрессий. Это новый опыт, не просто развлечение, а возможность переосмыслить что-то с другими зрителями, возможность выйти со спектакля и обсудить наравне. Когда видишь такие моменты, когда незрячие зрители приходят со своими зрячими друзьями, родственниками, с ними спорят, обсуждают. Думаешь, что вот, я хорошо сделала свою работу. Это очень приятно.
— Появились ли у Вас друзья с нарушениями зрения, с которыми Вы общаетесь вне работы?
Да, с некоторыми общаемся и видимся. Поскольку у меня маленький ребенок и много разных проектов, сейчас я редко вижусь с кем-то, но да, есть люди с которыми мы близко общаемся не только по работе.
— Что Вы бы посоветовали людям, которые хотели бы как-то помочь незрячим в повседневной жизни?
— Если говорить о тифлокомментировании, я хотела бы всем посоветовать максимально подробно описывать свой контент в социальных сетях. Здесь стоит различать тифлокомментарий и альтернативный текст. Альтернативный текст в Instagram виден только незрячим людям, когда они наводят курсор на изображение в специальных программах, он отличается от тифлокомментария тем, что он сжатый, короткий. Я никогда не пишу альтернативный текст по идеологическим соображениям, я умышленно всегда пишу в самом посте краткое или подробное описание изображения, потому что я хочу, чтобы это видели люди и зрячие, и незрячие. Потому что когда люди зрячие это видят, они начинают интересоваться, задавать вопросы. Таким образом, я их немного просвещаю, а они потом ещё кому-то расскажут, это очень хорошо работает. Я всем рекомендую делать своему визуальному контенту описание. К сожалению, сториз не доступны незрячим, за исключением, если когда записываешь видео, не проговаривать, что ты видишь. Это единственный способ сделать доступными сториз, но незрячие особо ими не пользуются. Вот посты они активно читают, смотрят, лайкают. И им было бы гораздо приятнее, если большая часть постов была описана, так как для них изображение не существует, пока оно не описано.
Ещё я всем очень рекомендую, если вы спикер или спикерка на каком-то мероприятии – инклюзивном или нет, потому что вы не знаете, есть ли в зале люди, которым нужен тифлокомментарий. Начните свое выступление с описания себя. Это всем очень полезно, вы даже почувствуете, как меняется ваше отношение к самому себе, своей внешности, это немножко способ переосмыслить свою внешность, это очень терапевтично иногда бывает. Других спикеров я не рекомендую описывать, по этикету каждый из спикеров должен описывать сам себя. И не важно, как вы себя опишете, это может быть совершенно разное описание, это не обязательно должно быть профессиональное описание тифлокомментатора, любое описание уже будет полезно. Если каждый воспользуется этими советами, мир станет чуточку прекрасней и видимей.
— Расскажите немного про свою деятельность как художницы.
— Всё это в рамках нашей арт-группы «Андрогин и Кентавр», мы её создали в январе прошлого года, подали заявку на гранты для молодых художников и сразу их получили. Мы поучаствовали в нескольких фестивалях с видеоартом «Песнь Песней», побывали на инклюзивном фестивале «Особый взгляд» в Казани, потом мы с одной работой участвовали на Mad Pride Parade в Берлине, это было онлайн-мероприятие, на Youtube можно посмотреть. Ко всем нашим видеоработам, где есть визуальная составляющая или звуковая, мы добавляем всегда тифлокомментарий и субтитры для того, чтобы работа была всем доступна. Так же недавно у нас были показы перформанса «Коррекция» в Центре Мейерхольда, 4-6 июня. Это был очень трудный для нашей арт-группы опыт проживания очень травматичного опыта на сцене и после перформанса. На всех трех показах был аншлаг, я вижу, что поднятые нами темы калечащих коррекционных практик и темы заботы, сексуальности людей с разной телесностью вызвали большой отклик у арт-среды. Во всех наших работах мы изучаем следующие темы – репрезентация ненормотипического тела, сексуальности, инклюзии, заботы, личных границ, зависимости и созависимости, свободы. Все работы очень телесные, связанные с телом, мы от этого отталкиваемся. Это меня очень вдохновляет, я занимаюсь тем, чем давно хотела.
— Кто такой хороший тифлокомментатор по вашему мнению?
Поскольку я фем-активистка и использую феминитивы, я скажу за себя, кто такая хорошая тифлокомментесса или тифлокомменаторка, кому как больше нравится. Хорошая тифлокоментесса – во первых, эмпатичная персона. Человек, у которого высокий уровень эмпатии, умеющий работать над собой. Не боящийся совершить ошибку, всегда готовый выслушать конструктивную критику, учиться и работать над собой. Потому что мир очень сильно меняется, сфера инклюзии очень сильно меняется и она уже совсем не та, которой была в 2011 году. Это человек очень усидчивый, готовый работать с текстами, много раз их перечитывать, редактировать, просматривать материал, с которым работает и любит этот материал. Потому что если ты нет любишь материал и аудиторию, это всегда очень видно. Это трудолюбивый человек, который умеет и готов видеть прекрасное и для прекрасного открыт. Человек, который общается с людьми с инвалидностью на равных. Конечно, ещё много чего может быть – и хороший язык, знание синонимов, языков, хорошая культурная основа, но это все навыки, этому всему можно научиться. А качества, выше перечисленные мною, изначально должны быть у человека.
Ну и наверно, человек, который способен к любви в общечеловеческом понимании слова. Смелый, с активной жизненной позицией.
— Чему Вы научились у людей с нарушениями зрения?
— Хороший вопрос, у меня было столько интервью разных, но такой интересный вопрос мне не задавали. Я научилась соблюдению личных границ. После того, как я стала работать с незрячими и слабовидящими, у меня появились свои личные границы. У меня были проблемы с этим, не могла их выстроить – то есть, существовали границы других людей, а своих не было. А теперь я научилась. Ещё у меня какое-то время был очень сильный страх потери зрения. Наверно, ещё я у меня пропал страх экспериментов, то есть я стала охотней и смелей пробовать что-то новое, не бояться, а просто делать. И я стала ещё более чуткой к окружающим, к себе, к близким. Это всё очень меня изменило. Очень много чему научилась у них, но ещё не могу это всё до конца осмыслить, обязательно об этом подумаю. Спасибо за вопрос!
Мы, в свою очередь, благодарим Веру за увлекательное интервью и желаем успехов в работе и художественной деятельности!
Интервью провела Анна Железнякова.
Фотографии из личного архива Веры Берлиновой.
— Да, я всегда стараюсь пообщаться со зрителями, посетителями, получить обратную связь. В кино это редко получается, только на кинофестивалях, где я провожу сама тифлокомментарий и подхожу к зрителям. Для меня это очень важно, я считаю, для каждого это должно быть важно, потому что без обратной связи трудно понять, куда двигаться. Потому что иногда кажется, что вроде всё понятно, хорошо сделано, но везде есть какие-то тонкости. И очень много здесь приятных моментов, люди подходят, благодарят, для них большая радость, что они смогли «увидеть» спектакль.
Очень здорово бывает, когда ты с одними и теми же зрителями работаешь очень долго, вы встречаетесь, обсуждаете новости. Вот у меня был случай, который я очень люблю вспоминать. Когда мама с незрячим подростком подошли ко мне и сказали, что ходили на курс в музей «Гараж», где я тифлокомментировала живопись, в том числе, эпохи Возрождения. И что спустя год или два года они сходили на спектакль «Золотой маски» и увидели эту отсылку, почему цвета именно такие, как на картинах, которые я описывала. То есть, человек увязал один образ с другим. Это то, ради чего стоит работать. Когда по прошествии времени понимаешь, что твои тифлокомментарии помогают людям формировать культурный пласт, «насмотренность» – про незрячего тоже можно употребить этот термин. Это очень здорово, когда люди за такое благодарят.
Или когда подходят и благодарят за тифлокомментарий к спектаклям на социально значимые темы, например, тему домашнего насилия или опыт репрессий. Это новый опыт, не просто развлечение, а возможность переосмыслить что-то с другими зрителями, возможность выйти со спектакля и обсудить наравне. Когда видишь такие моменты, когда незрячие зрители приходят со своими зрячими друзьями, родственниками, с ними спорят, обсуждают. Думаешь, что вот, я хорошо сделала свою работу. Это очень приятно.
— Появились ли у Вас друзья с нарушениями зрения, с которыми Вы общаетесь вне работы?
Да, с некоторыми общаемся и видимся. Поскольку у меня маленький ребенок и много разных проектов, сейчас я редко вижусь с кем-то, но да, есть люди с которыми мы близко общаемся не только по работе.
— Что Вы бы посоветовали людям, которые хотели бы как-то помочь незрячим в повседневной жизни?
— Если говорить о тифлокомментировании, я хотела бы всем посоветовать максимально подробно описывать свой контент в социальных сетях. Здесь стоит различать тифлокомментарий и альтернативный текст. Альтернативный текст в Instagram виден только незрячим людям, когда они наводят курсор на изображение в специальных программах, он отличается от тифлокомментария тем, что он сжатый, короткий. Я никогда не пишу альтернативный текст по идеологическим соображениям, я умышленно всегда пишу в самом посте краткое или подробное описание изображения, потому что я хочу, чтобы это видели люди и зрячие, и незрячие. Потому что когда люди зрячие это видят, они начинают интересоваться, задавать вопросы. Таким образом, я их немного просвещаю, а они потом ещё кому-то расскажут, это очень хорошо работает. Я всем рекомендую делать своему визуальному контенту описание. К сожалению, сториз не доступны незрячим, за исключением, если когда записываешь видео, не проговаривать, что ты видишь. Это единственный способ сделать доступными сториз, но незрячие особо ими не пользуются. Вот посты они активно читают, смотрят, лайкают. И им было бы гораздо приятнее, если большая часть постов была описана, так как для них изображение не существует, пока оно не описано.
Ещё я всем очень рекомендую, если вы спикер или спикерка на каком-то мероприятии – инклюзивном или нет, потому что вы не знаете, есть ли в зале люди, которым нужен тифлокомментарий. Начните свое выступление с описания себя. Это всем очень полезно, вы даже почувствуете, как меняется ваше отношение к самому себе, своей внешности, это немножко способ переосмыслить свою внешность, это очень терапевтично иногда бывает. Других спикеров я не рекомендую описывать, по этикету каждый из спикеров должен описывать сам себя. И не важно, как вы себя опишете, это может быть совершенно разное описание, это не обязательно должно быть профессиональное описание тифлокомментатора, любое описание уже будет полезно. Если каждый воспользуется этими советами, мир станет чуточку прекрасней и видимей.
— Расскажите немного про свою деятельность как художницы.
— Всё это в рамках нашей арт-группы «Андрогин и Кентавр», мы её создали в январе прошлого года, подали заявку на гранты для молодых художников и сразу их получили. Мы поучаствовали в нескольких фестивалях с видеоартом «Песнь Песней», побывали на инклюзивном фестивале «Особый взгляд» в Казани, потом мы с одной работой участвовали на Mad Pride Parade в Берлине, это было онлайн-мероприятие, на Youtube можно посмотреть. Ко всем нашим видеоработам, где есть визуальная составляющая или звуковая, мы добавляем всегда тифлокомментарий и субтитры для того, чтобы работа была всем доступна. Так же недавно у нас были показы перформанса «Коррекция» в Центре Мейерхольда, 4-6 июня. Это был очень трудный для нашей арт-группы опыт проживания очень травматичного опыта на сцене и после перформанса. На всех трех показах был аншлаг, я вижу, что поднятые нами темы калечащих коррекционных практик и темы заботы, сексуальности людей с разной телесностью вызвали большой отклик у арт-среды. Во всех наших работах мы изучаем следующие темы – репрезентация ненормотипического тела, сексуальности, инклюзии, заботы, личных границ, зависимости и созависимости, свободы. Все работы очень телесные, связанные с телом, мы от этого отталкиваемся. Это меня очень вдохновляет, я занимаюсь тем, чем давно хотела.
— Кто такой хороший тифлокомментатор по вашему мнению?
Поскольку я фем-активистка и использую феминитивы, я скажу за себя, кто такая хорошая тифлокомментесса или тифлокомменаторка, кому как больше нравится. Хорошая тифлокоментесса – во первых, эмпатичная персона. Человек, у которого высокий уровень эмпатии, умеющий работать над собой. Не боящийся совершить ошибку, всегда готовый выслушать конструктивную критику, учиться и работать над собой. Потому что мир очень сильно меняется, сфера инклюзии очень сильно меняется и она уже совсем не та, которой была в 2011 году. Это человек очень усидчивый, готовый работать с текстами, много раз их перечитывать, редактировать, просматривать материал, с которым работает и любит этот материал. Потому что если ты нет любишь материал и аудиторию, это всегда очень видно. Это трудолюбивый человек, который умеет и готов видеть прекрасное и для прекрасного открыт. Человек, который общается с людьми с инвалидностью на равных. Конечно, ещё много чего может быть – и хороший язык, знание синонимов, языков, хорошая культурная основа, но это все навыки, этому всему можно научиться. А качества, выше перечисленные мною, изначально должны быть у человека.
Ну и наверно, человек, который способен к любви в общечеловеческом понимании слова. Смелый, с активной жизненной позицией.
— Чему Вы научились у людей с нарушениями зрения?
— Хороший вопрос, у меня было столько интервью разных, но такой интересный вопрос мне не задавали. Я научилась соблюдению личных границ. После того, как я стала работать с незрячими и слабовидящими, у меня появились свои личные границы. У меня были проблемы с этим, не могла их выстроить – то есть, существовали границы других людей, а своих не было. А теперь я научилась. Ещё у меня какое-то время был очень сильный страх потери зрения. Наверно, ещё я у меня пропал страх экспериментов, то есть я стала охотней и смелей пробовать что-то новое, не бояться, а просто делать. И я стала ещё более чуткой к окружающим, к себе, к близким. Это всё очень меня изменило. Очень много чему научилась у них, но ещё не могу это всё до конца осмыслить, обязательно об этом подумаю. Спасибо за вопрос!
Мы, в свою очередь, благодарим Веру за увлекательное интервью и желаем успехов в работе и художественной деятельности!
Интервью провела Анна Железнякова.
Фотографии из личного архива Веры Берлиновой.
Поделиться с друзьями